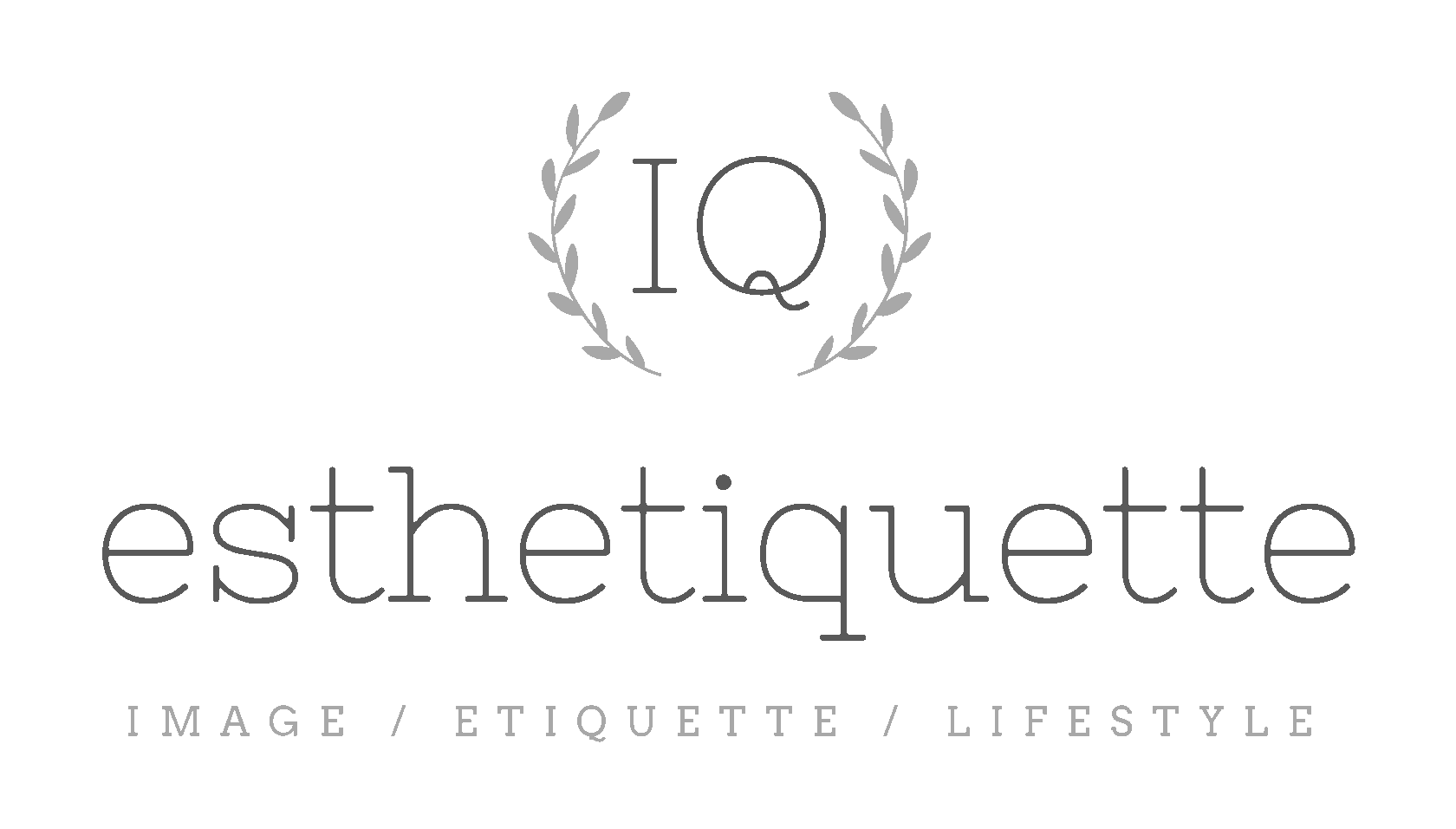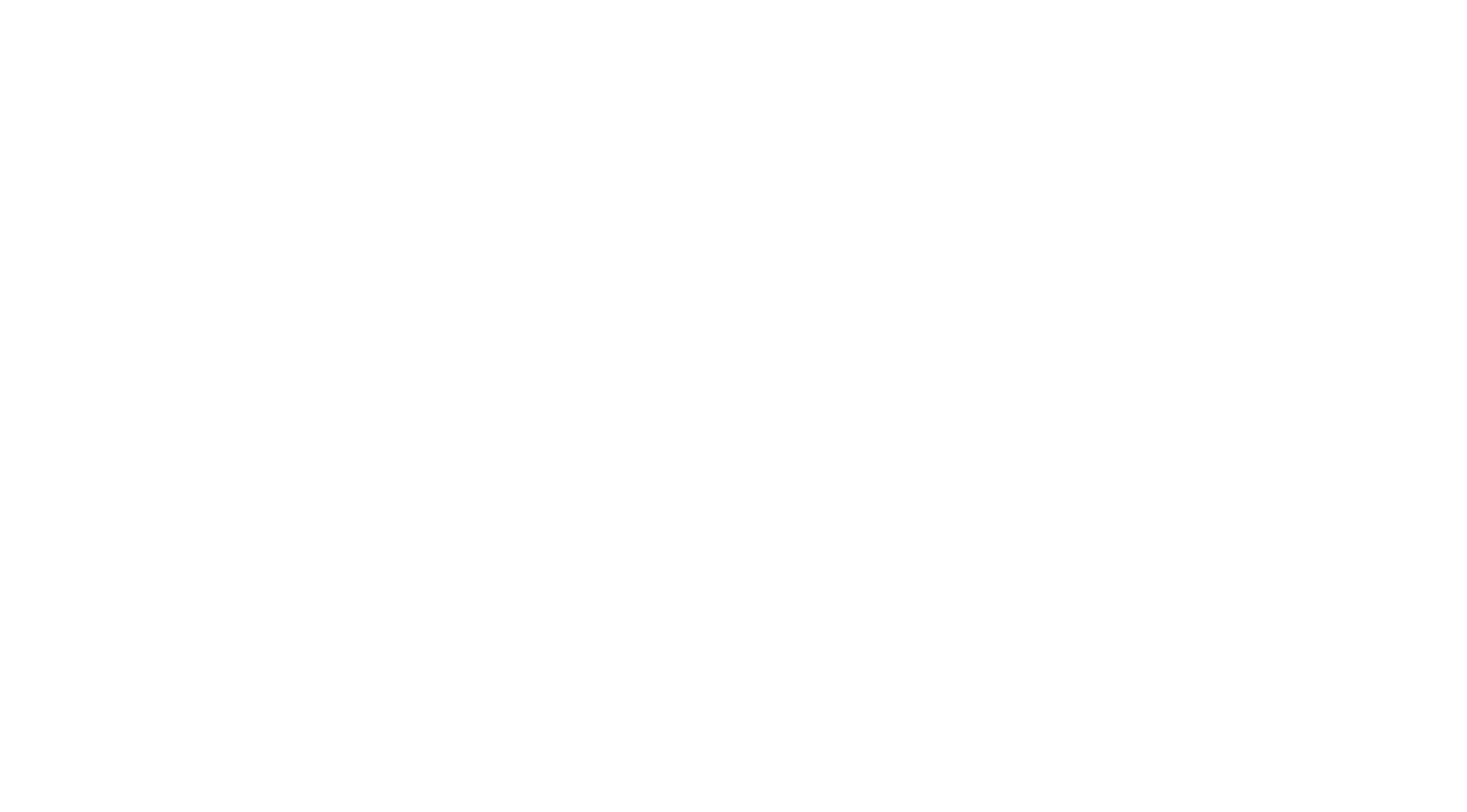автор: елизавета преображенская
Трагедия Вяземских
Большую часть жизни прожила она заграницей, но считала себя только русской. Спасительное изгнание подарило долгие годы жизни в безопасности и достатке, но оно же породило в душе неисцелимую ностальгию по несчастной распятой России, с которой были связаны самые светлые воспоминания юности и самые чудовищные картины беспощадного бунта.
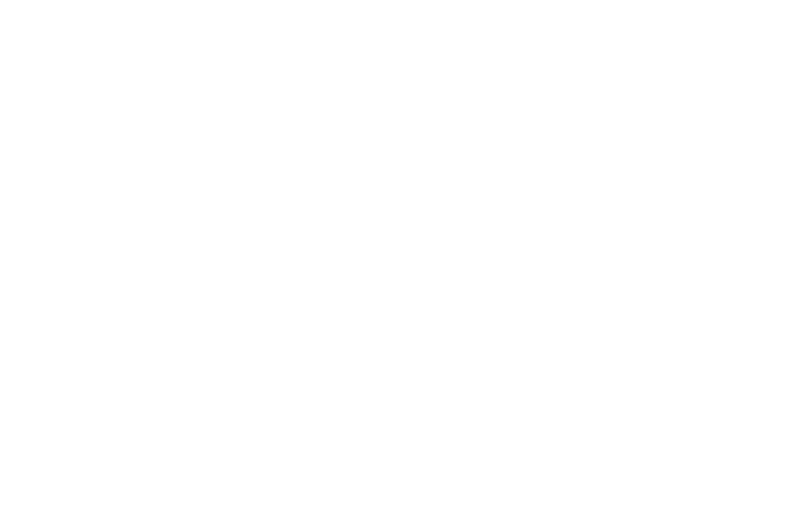
Шереметевы
Елизавета Дмитриевна Шереметева родилась в семье очень близкой ко двору. Ее отец и мать входили в знаменитое общество «Картофель» — узкий круг близких друзей цесаревича Николая Александровича и великой княжны Ксении Александровны. Отец, Дмитрий Сергеевич Шереметев, статный кавалергард, был с детства дружен с императором Николаем II. А мать, Ирина Илларионовна Воронцова-Дашкова с сестрами обычно составляли компанию великой княжны Ксении для детских игр, чаепитий и танцев.
Елизавета была старшей дочерью Ирины Илларионовны и Дмитрия Сергеевича, она родилась в 1893 году и принадлежала к поколению великих княжон Ольги и Татьяны, поколению, юность которого была безжалостно исковеркана войной и революциями. В семье старшую дочь ласково называли Лили – на французский манер. Лили, воспитанная гувернанткой-француженкой, очень любила все французское и язык знала так хорошо, что вполне могла показаться коренной парижанкой.
Елизавета была старшей дочерью Ирины Илларионовны и Дмитрия Сергеевича, она родилась в 1893 году и принадлежала к поколению великих княжон Ольги и Татьяны, поколению, юность которого была безжалостно исковеркана войной и революциями. В семье старшую дочь ласково называли Лили – на французский манер. Лили, воспитанная гувернанткой-француженкой, очень любила все французское и язык знала так хорошо, что вполне могла показаться коренной парижанкой.
Елизавета Шереметева и Борис Вяземский
Ей было всего 19 лет, когда она обручилась с представителем еще одного русского знатного рода, князем Борисом Леонидовичем Вяземским. Несмотря на значительную разницу в возрасте этот брак был заключен по любви.
В 19 лет Лили Вяземская стала хозяйкой обширных владений, однако к роли важной гранд-дамы девушка не была готова. Когда Вяземские и их ближайшие родственники, Шереметевы, Васильчиковы, Шуваловы и Воронцовы-Дашковы собирались в фамильных усадьбах Осиновая Роща или Лотарево, Лили Вяземскую чаще можно было заметить не чинно беседующей с дамами за чайным столиком под сенью деревьев, а принимающую самое живое участие в детских играх и проказах. Но именно эту живость, это очарование юности больше всего и ценил Борис Вяземский. Он и не требовал от своей Лили погружаться в хозяйственные дела, все это он делал сам, при том очень успешно.
Сестра Бориса Леонидовича, Лидия Васильчикова вспоминает: "Он не только был знатоком зверей и птиц, но страстно любил природу и вел дневники флоры и фауны нашей местности. Не обращая внимания на наши насмешки, он отправлялся с биноклем изучать то, что мы, шутя, называли «частной жизнью пернатого мира». Редко встречаешь человека, интересующегося всем и умеющего вникать в сущность каждого вопроса. Это свойство моего брата Бориса поражало всех, кто с ним приходил в соприкосновение. Еще совсем молодым человеком он сопровождал П.А.Столыпина в его поездке по Сибири в 1910 году. Участвовавший в ней министр земледелия А.В.Кривошеин рассказывал мне после смерти брата, что из-за его способности схватывать суть положения и изучить его досконально в самое короткое время он был, невзирая на свою молодость, ценным членом этой экспедиции. «Человек с громадным будущим, в какой бы области он ни стал работать!» — вот отзыв, на котором сходились, по словам Кривошеина, начальники Сибирской поездки. Со всем этим, мой брат прекрасно говорил и был прирожденным дипломатом и поэтому был неоценим на разных собраниях нашего Земства, где он ухитрялся примирить непримиримых противников.
Борис был любимцем моей матери. Не то, что она баловала его больше других, но она имела основание им гордиться, и он был тем из нас, кто больше оправдал ее надежды и ее систему воспитания. Единственное восклицание, вырвавшееся у нее после его смерти в 1917 году, выражало все то, что она о нем думала: «Иметь в себе достаточно, чтобы заполнить три жизни, и все это скошено в 33 года...»
В 19 лет Лили Вяземская стала хозяйкой обширных владений, однако к роли важной гранд-дамы девушка не была готова. Когда Вяземские и их ближайшие родственники, Шереметевы, Васильчиковы, Шуваловы и Воронцовы-Дашковы собирались в фамильных усадьбах Осиновая Роща или Лотарево, Лили Вяземскую чаще можно было заметить не чинно беседующей с дамами за чайным столиком под сенью деревьев, а принимающую самое живое участие в детских играх и проказах. Но именно эту живость, это очарование юности больше всего и ценил Борис Вяземский. Он и не требовал от своей Лили погружаться в хозяйственные дела, все это он делал сам, при том очень успешно.
Сестра Бориса Леонидовича, Лидия Васильчикова вспоминает: "Он не только был знатоком зверей и птиц, но страстно любил природу и вел дневники флоры и фауны нашей местности. Не обращая внимания на наши насмешки, он отправлялся с биноклем изучать то, что мы, шутя, называли «частной жизнью пернатого мира». Редко встречаешь человека, интересующегося всем и умеющего вникать в сущность каждого вопроса. Это свойство моего брата Бориса поражало всех, кто с ним приходил в соприкосновение. Еще совсем молодым человеком он сопровождал П.А.Столыпина в его поездке по Сибири в 1910 году. Участвовавший в ней министр земледелия А.В.Кривошеин рассказывал мне после смерти брата, что из-за его способности схватывать суть положения и изучить его досконально в самое короткое время он был, невзирая на свою молодость, ценным членом этой экспедиции. «Человек с громадным будущим, в какой бы области он ни стал работать!» — вот отзыв, на котором сходились, по словам Кривошеина, начальники Сибирской поездки. Со всем этим, мой брат прекрасно говорил и был прирожденным дипломатом и поэтому был неоценим на разных собраниях нашего Земства, где он ухитрялся примирить непримиримых противников.
Борис был любимцем моей матери. Не то, что она баловала его больше других, но она имела основание им гордиться, и он был тем из нас, кто больше оправдал ее надежды и ее систему воспитания. Единственное восклицание, вырвавшееся у нее после его смерти в 1917 году, выражало все то, что она о нем думала: «Иметь в себе достаточно, чтобы заполнить три жизни, и все это скошено в 33 года...»
Имение Вяземских Лотарево
В своей воронежской усадьбе Лотарево Борис Леонидович создал образцовое процветающее хозяйство, приносящие немалые доходы. Помимо грамотно налаженного хозяйства в Лотарево была построена электростанция на 500 лампочек, разбит прекрасный парк с редкими сортами цветов и деревьев. Лотаревский конезавод получил общероссийскую известность: кони Вяземских брали призы на различных престижных соревнованиях.
Не забывал князь Вяземский и о крестьянах окрестных деревень: для них он построил на свои личные средства большую просторную больницу, две школы, содержал летний пансионат для детей из бедных семей. Но как же может быть огромна степень человеческой неблагодарности – все те, кто не видел от Бориса Леонидовича ничего кроме добра и помощи, при первой же возможности, с первым дуновением революционного ветра, набросились на него и растерзали, разграбили поместье, разрушили усадебный дом, а отнятую у Вяземских землю всего за несколько лет довели до полного запустения.
Лидия Васильчикова, каждое лето гостившая у брата в Лотераво со своими детьми писала: "Нигде в другом месте, в России и за границей, не приходилось мне видеть так хорошо содержавшегося парка и сада, как в Лотареве. Тот же образцовый порядок царил и во всех усадебных постройках. Тем не менее, ничего натянутого, зализанного в Лотареве не было.
Одним из украшений имения было швицкое стадо коров — все знаковые, серые, с темной полосой по хребту и большими глазами, как у лани. Быки покупались в Швейцарии, и когда они прибывали, то бывали смирные и добродушные, но скотники, по большей части, обращались с ними так грубо, что, за одним исключением, все быки, которых я помню, оказывались исключительно свирепыми... В Лотареве находился один из самых знаменитых рысистых конных заводов в России... В особой чести были два производителя, родоначальники многих прославившихся потомков: караковый американец Вильбурн М. и серый чистопородный орловский жеребец Зенит собственного завода, выигравший в свое время русский «Дерби». За исключением рысистых маток, табуны летом паслись в степи, на дальнем конце имения. Степь испещряли перелески, которые в нашей местности зовутся «кустами». Мой отец окружил их хвойными и березовыми посадками, и поэтому в Лотареве была хорошая охота.
На холме, видном отовсюду, стояла больница, построенная моим отцом в память его сестры в 1903 году. Лучшие больницы Петербурга служили для нее образцом, но одну особенность я видела только в ней: после осмотра в амбулатории определенный к поступлению в больницу пациент прямо проходил в комнату с люком, где одежда его проваливалась в дезинфекционную камеру и возвращалась ему только при выписке... Он проходил в соседнюю ванную комнату, откуда, после основательного мытья, уже в больничных одеждах следовал в палату. Это оказалось для сельской больницы полезным новшеством...
В двух верстах от Лотарева находилось большое село Коробовка, где мои родители построили церковь и образовали хор из крестьян. На колоколе этой церкви была надпись, взятая из эпиграфа к «Колоколу» Шиллера: «Vivas voco. Mortuos piango. Fulgura frango» («Живых зову. Усопших поминаю. В огне гужу»), к которому моими родителями было прибавлено — «В метель людей спасаю». Гравируя эту надпись, они не могли предвидеть, что этому колоколу будет дано еще другое назначение: бить в набат в 1917 году, призывая округу участвовать в захвате моего брата Бориса... Каждое лето один из певчих знаменитого хора Архангельского приезжал из Петербурга управлять нашим деревенским хором и учить его новым номерам и достигал удивительных результатов. В нашей церкви пелся весь репертуар Императорской Придворной капеллы, причем с таким совершенством и законченностью, что никто из слушателей не хотел верить, что они имеют дело с простым деревенским хором... От таких тонких артистов мы были вправе ожидать другого, чем от других, менее развитых односельчан. К несчастью, это было не так, и главный тенор оказался в декабре и главным погромщиком Лотарева..."
Не забывал князь Вяземский и о крестьянах окрестных деревень: для них он построил на свои личные средства большую просторную больницу, две школы, содержал летний пансионат для детей из бедных семей. Но как же может быть огромна степень человеческой неблагодарности – все те, кто не видел от Бориса Леонидовича ничего кроме добра и помощи, при первой же возможности, с первым дуновением революционного ветра, набросились на него и растерзали, разграбили поместье, разрушили усадебный дом, а отнятую у Вяземских землю всего за несколько лет довели до полного запустения.
Лидия Васильчикова, каждое лето гостившая у брата в Лотераво со своими детьми писала: "Нигде в другом месте, в России и за границей, не приходилось мне видеть так хорошо содержавшегося парка и сада, как в Лотареве. Тот же образцовый порядок царил и во всех усадебных постройках. Тем не менее, ничего натянутого, зализанного в Лотареве не было.
Одним из украшений имения было швицкое стадо коров — все знаковые, серые, с темной полосой по хребту и большими глазами, как у лани. Быки покупались в Швейцарии, и когда они прибывали, то бывали смирные и добродушные, но скотники, по большей части, обращались с ними так грубо, что, за одним исключением, все быки, которых я помню, оказывались исключительно свирепыми... В Лотареве находился один из самых знаменитых рысистых конных заводов в России... В особой чести были два производителя, родоначальники многих прославившихся потомков: караковый американец Вильбурн М. и серый чистопородный орловский жеребец Зенит собственного завода, выигравший в свое время русский «Дерби». За исключением рысистых маток, табуны летом паслись в степи, на дальнем конце имения. Степь испещряли перелески, которые в нашей местности зовутся «кустами». Мой отец окружил их хвойными и березовыми посадками, и поэтому в Лотареве была хорошая охота.
На холме, видном отовсюду, стояла больница, построенная моим отцом в память его сестры в 1903 году. Лучшие больницы Петербурга служили для нее образцом, но одну особенность я видела только в ней: после осмотра в амбулатории определенный к поступлению в больницу пациент прямо проходил в комнату с люком, где одежда его проваливалась в дезинфекционную камеру и возвращалась ему только при выписке... Он проходил в соседнюю ванную комнату, откуда, после основательного мытья, уже в больничных одеждах следовал в палату. Это оказалось для сельской больницы полезным новшеством...
В двух верстах от Лотарева находилось большое село Коробовка, где мои родители построили церковь и образовали хор из крестьян. На колоколе этой церкви была надпись, взятая из эпиграфа к «Колоколу» Шиллера: «Vivas voco. Mortuos piango. Fulgura frango» («Живых зову. Усопших поминаю. В огне гужу»), к которому моими родителями было прибавлено — «В метель людей спасаю». Гравируя эту надпись, они не могли предвидеть, что этому колоколу будет дано еще другое назначение: бить в набат в 1917 году, призывая округу участвовать в захвате моего брата Бориса... Каждое лето один из певчих знаменитого хора Архангельского приезжал из Петербурга управлять нашим деревенским хором и учить его новым номерам и достигал удивительных результатов. В нашей церкви пелся весь репертуар Императорской Придворной капеллы, причем с таким совершенством и законченностью, что никто из слушателей не хотел верить, что они имеют дело с простым деревенским хором... От таких тонких артистов мы были вправе ожидать другого, чем от других, менее развитых односельчан. К несчастью, это было не так, и главный тенор оказался в декабре и главным погромщиком Лотарева..."
Лотарево без хозяев
Запустение это, впрочем, началось как-то разом, в один миг – 24 августа 1917 года.
Лотарево сейчас относится к Липецкой области, в этом маленьком и запущенном селе сейчас нет больницы, нет школы, храмы разрушены, земли поросли сорной травой. Здесь больше не разводят породистых коней, и густого душистого аромата роз больше не слышно. За лотаревским розарием ухаживала Лили Вяземская, это была ее затея, ее детище. Обезумевшие крестьянки истоптали княжеские розы в тот ужасный день, когда их мужья забили до смерти князя. Женщины хотели убить и княгиню – они уже накинули на ее тоненькую шею петлю и готовы были задушить испуганную и ничего не понимающую Лили, но в последний момент на что-то отвлеклись, забыли о ней.
Так судьба уберегла Лили Шереметеву от участи, которая постигла ее супруга. Убийство Бориса Вяземского многих шокировало даже в те страшные года. Марина Цветаева назвала лотаревскую трагедию «знаменитой, по зверскости, расправой».
А что же Лили? Впоследствии Лили, уже оказавшись за границей всегда признавалась, что не держит зла на крестьян и считает виновником трагедии именно большевика-агитатора, еврейского комиссара, который на протяжении нескольких недель вел пламенную агитацию среди крестьян: умело подстрекал, провоцировал, пробуждал в людях их мрачные мотивы.
Из воспоминаний Елизаветы Вяземской:
"23 августа. Несмотря на ночной переполох, Борис первый пришел в столовую, где мы всегда пили кофе, и, по неизменному обычаю, постучал пальцем по барометру. Затем появился Ваня Горшков (дворецкий), который, встав за стулом Бориса, стал, как полагалось, сообщать ему хозяйственные новости и, между прочим, что мужики ночью бродили вокруг дома. Ваня был долгие годы камердинером отца Бориса и знал Бориса с малых лет. В это утро, более горячо, чем когда-либо, он стал убеждать Бориса, что нам пора уезжать, что положение таково, что Борис ничего здесь сделать не может и что жизнь его может быть в опасности. На это Борис ему ответил, что, как частное лицо, он совершенно согласен с Ваней, что благоразумнее и даже, может быть, полезнее нам было бы уезжать в Петроград, но, как уездный Предводитель дворянства, который по должности является Председателем мобилизационной комиссии, он обязан во время войны оставаться на месте. Ничего особенного до завтрака не произошло. Наш закусочный стол стоял перед окном, и я, которая там стояла, первая увидела бежавших по направлению к кухне солдат с винтовками наперевес и прапорщика, махавшего саблей и кричащего «спасайтесь!». Одновременно мы услыхали набат из двух бывших крепостных заречных деревень — Падворок и Дебрей. Мы отправились на кухню, где солдаты и наши служащие стали нас уговаривать уезжать, хотя бы временно, в Усмань.
В этот момент к кухонному крыльцу подъехал на тройке кучер Михайло. По-видимому, на конюшне давно были готовы к такой тревоге. «Надо ехать сейчас же! — сказал Михайло — Через пять минут будет поздно!» - «Вези княгиню к Бланку! — сказал Борис Михайле. — Я не могу отсюда бежать...», — и, обращаясь ко мне, сказал: «Please go, it will be much easier for me!» («Пожалуйста, поезжай, мне от этого будет много легче!»). Гул толпы все усиливался Борис отправился им навстречу, и я за ним. На большом дворе нас встретили криками: «Зачем приказал солдатам в нас стрелять?!» Борис спокойно стал им объяснять, что солдатам никто не приказывал стрелять, но, когда бабы полезли на них с кольями, они с испуга стали стрелять в воздух. Толпа понемногу перестала на этом настаивать и перешла на сведение старых счетов с отцом Бориса, которого они боялись и не любили, а также вообще с обидами времен крепостничества. Бабы, тем временем, занялись мною, обвиняя меня в закрытии ворот в парк (они мне ломали кусты посаженного в большом количестве Аmеlanohier Canadensis — Shadblow), тем самым, якобы, удлиняя им дорогу к почтовому отделению. К моему удивлению, у меня на шее появилась откуда-то веревка. Однако не успели бабы это сделать, как мужики грозно прикрикнули на них, и веревка исчезла. В это же время какой-то мальчишка, чтобы лучше видеть, залез на дерево и стал рвать мешавшие ему электрические провода. Инстинктивная реакция Бориса была крикнуть мальчишке, чтобы он слезал прочь, но так как тот не сразу послушался, то один из мужиков крикнул: «Слезай, дурак! Слышь, что тебе князь говорит!». Вся толпа застыла в молчании, как бы обдумывая эти взаимные проявления. Но в этот момент из толпы, которая к этому времени сильно увеличилась мужиками из Коробовки, выдвинулся маленький, щуплый, еврейского типа человек в pince-nez, который стал издеваться над мужиками, что они не смеют ничего с Борисом сделать, потому что в душе они все еще крепостные. Коробовский староста ему ответил: «Да, что говорить... Привычка... Князь свистнет — мы слушаемся... Но настали новые времена — мы хотим взять его земли. Живым он нам их не отдаст, и хотя мы его уважаем, но все же придется нам с ним покончить. Но тебе, — сказал он, обращаясь к агитатору, который одобрительно отозвался на его речь, — радоваться нечего. Наступят времена, когда мы вашего брата будем вешать, но уже без всякого уважения». Следователь, который впоследствии допрашивал меня в Москве, сказал мне, что этот большевистский провокатор был некий Моисеев, выпущенный из Сибири, куда он был сослан, как фальшивомонетчик. Наше стояние было долгое. День начал склоняться к вечеру, когда толпа, наконец, решилась нас арестовать и запереть в новой школе, недавно выстроенной Борисом в Коробовке.
Вся толпа с нами вместе отправилась туда пешком. Там нас заперли в двух маленьких комнатах учительницы, которая была в отпуску. Мебель там состояла из кровати, двух стульев, одного небольшого белого дерева стола, над которым висела раскрашенная открытка Алупки. В комнатах не было никаких занавесок. «Жаль, — сказал Борис, — что мы сейчас не там вместе с Асей и Софи». За исключением двух солдат, поставленных у нашей двери мужиками, школа была из-за летних каникул пуста. К вечеру неожиданно появилась у нас моя горничная Анна Пацевич - храбрейшая и милейшая женщина, весьма ловкая заговаривать и уговаривать. Она сумела убедить нашу стражу позволить ей передать нам непромокаемые пальто и папиросы, в которых мы, как она знала, очень нуждались. «Burberry» Бориса нам помогло завесить единственное окно в маленькой комнате, где была кровать. О спанье не было и речи, но таким образом мы избавились от бесчисленных лиц баб и детей, которые, прилипнув к окнам, с любопытством нас рассматривали. Поздно ночью вдруг вошли к нам солдаты нашей стражи и повели нас в классную комнату, где на стульях полукругом сидели старосты и важнейшие мужики, перед которыми веером лежали все наши многочисленные охотничьи ружья. С первых же слов было ясно, что наши «судьи» были в приподнятом настроении. Обращаясь к Борису и показывая на ружья, они стали его обвинять в том, что все это оружие собрано для расправы с ними. Я не выдержала и сказала им: «Как будто вы никогда раньше не видали эти ружья. Большинство из вас побывало нашими загонщиками». Борис быстро сказал мне: «Don't talk, let me answer!» («He говори ничего! Дай мне ответить!»). Обвинения становились все более и более абсурдными, и чем дольше продолжался допрос, тем яснее становилось, что они все пьяны (впоследствии я узнала, что все три деревни разгромили наш погреб и что все окружное население было пьяно). Княжья Байгора, самое большое село, богатое и с большим населением, чем все три деревни взятые вместе, не одобрило все происшествия этих дней и не приняло в них участие. Допрос тянулся долго, но, в конце концов, им надоело с нами спорить, и они отправили нас под арест назад, в комнату учительницы. Но мы не были без верных друзей. Два мужика из Коробовки, понимая, что мы в руках у пьяной толпы, решили во что бы то ни стало нас спасти. Один из них был Григорий Талицких, умный и образованный мужик. Будучи социалистом, он до революции жил под надзором полиции. Мне удалось несколько раз до этого спасти его от придирчивости местных властей, которые ждали только предлога, чтобы посадить его в тюрьму, — он это мне не забыл. Когда, после всего случившегося, я оказалась у Бланков, он приехал ко мне, чтобы выразить свое соболезнование и негодование по поводу убийства Бориса: «Неужели, — сказал он мне с горечью, — это — революция, о которой я так мечтал... Одни лишь пьяные звери». Другой, желавший нас спасти ночью из школы, был отставной вахмистр Конной гвардии. Третьим был молодой конюх из нашей беговой конюшни. Эти трое отправились ночью к Вельяминовым и стали упрашивать Марусю и Владимира дать им разрешение оседлать наших верховых лошадей и подвести их к окну комнаты, где мы были заперты. Они считали, что ввиду повального пьянства всей деревни риск не так уж велик и лучше рискнуть, чем оставить нас в руках озверелой толпы. Вельяминовы наотрез отказались дать согласие, сказав, что мы наверное будем пойманы и на месте убиты. Пожалуй, знакомая, хотя и пьяная толпа была бы менее страшна, чем тот отряд вооруженных дезертиров с фронта на станции Грязи, который затем и растерзал Бориса.
Поздно вечером вошел ко мне комиссар. Сказал, что я могу пойти домой. Совершенно не помню, кто меня довез домой (то есть, обратно в Лотарево), но помню мой вход в дом. В столовой был накрыт стол, и Ваня мне спокойно докладывал, что обед готов. Я прошла в нашу спальню, где кровать была открыта на ночь, — на одну минуту мне показалось, что если я лягу в кровать, то все случившееся за день исчезнет. Ваня же, зная, что я полтора суток не ела, пришел настаивать на том, чтобы я поужинала, убеждая меня, что Борис теперь в безопасности, так как солдаты, которых мужики заставили везти Бориса в Грязи, сказали ему, что самое главное — это вывезти его отсюда и что они его везут в Москву, где он будет в полной безопасности. Я этому поверила и решила пообедать. Сидя за столом, я вдруг услыхала странный шум и какой-то переполох в буфетной, куда вызвали Ваню. Вскоре оттуда появился солдат из охраны, который только что вернулся из Грязей. Он сказал мне, что Борис просит меня встретить его в Москве. С ним была Маруся Вельяминова, которая сказала, что приехала, чтобы повидать меня. Я чувствовала, что что-то неладно, что у них странный вид, что они что-то скрывают, но им удалось убедить меня лечь спать, чтобы завтра рано утром ехать в Москву. По дороге в мою спальню я зашла в кабинет Бориса и, к моему удивлению, увидала сидящего за письменным столом и разбиравшего какие-то бумаги Бориса того самого агитатора Моисеева, которого я видела в толпе вчера утром. Когда я его спросила, что он тут делает, он грубо мне крикнул: «Это не ваше дело! Отправляйтесь в свою комнату!» Солдат, который стоял за мной, сделал мне предостерегающий жест, чтобы я не отвечала. Не успела я вернуться к себе в комнату, как Анна пришла мне сказать, что мой друг солдат просит меня не ложиться спать, так как, как только станет совсем темно (нашу электрическую станцию толпа вчера разгромила и фонари не горели), он, с согласия кучера Михайло, воспользовавшись выходом из моего заднего коридора, вывезет меня в Грязи под видом моей горничной. Так было и сделано. Анна шла за нами, чтобы отвечать, если нас окликнут. Я должна была молчать и закрываться большим платком. Какие-то мужики с факелами нас окликнули. Солдат ответил, что уезжает по делам. Кромешная тьма нам помогла добраться до тройки. Не успели мы сесть в экипаж — солдат и я, как Михайло полным ходом вылетел из ворот усадьбы и, не сбавляя ходу, мы понеслись в Грязи. Стояла чудная звездная августовская ночь. Я радовалась, что подошел конец всему этому двухдневному кошмару и больше не беспокоилась о Борисе, считая, что он в Москве. Михайло и солдат угрюмо молчали. Иногда я слышала, что они вздыхали. Меня удивило, что мы объезжаем попадающиеся нам по пути деревни. Все это меня удивляло, но, как ни странно, не пугало. Я вдруг встрепенулась, когда увидела, что они подвезли меня к крыльцу дома в имении А.В.Бланка Аннино. «Зачем мы сюда приехали?» — спросила я Михайло. «Чтобы узнать, где князь», — ответил он. Я вошла, спросила где Борис. Они мне сказали, что он убит. Я повернулась назад и сказала Михайло везти меня на вокзал в Грязи. «Я поеду с вами», — сказал мне мой солдат. Он был удивительно трогателен со мной. Матрос-социалист, но не большевик. Без него я никогда бы не нашла товарный вагон на запасном пути, где лежало тело Бориса. Я оставалась в вагоне, пока совсем не рассвело. Кто-то позвал священника, который отслужил панихиду. Кроме него, в вагоне были только солдат и я, но потом подошли какие-то рабочие с маленькими детьми. Дети дали мне букет полевых цветов, который они собрали. Вернулась в Аннино, легла в постель и пролежала весь день.
На следующий день, 25 августа, военный комендант станции Грязи дал знать своему коллеге в Воронеже, куда направился ушедший из Грязей эшелон с предполагаемыми убийцами, чтобы эшелон был задержан и названные им лица арестованы.
В тот же лень, 25 августа, в помещении Грязинской станции, Усманский уездный комиссар Русанов и следователь Морозов осмотрели тело Бориса. Но когда они попытались допросить свидетелей на месте, их от этого отговорил командир военного конвоя, сказав, что его люди ненадежны и способны даже линчевать следователя. Уже на следующий день после убийства Бориса Вяземского местная печать начала подробно писать о произошедшем."
Лотарево сейчас относится к Липецкой области, в этом маленьком и запущенном селе сейчас нет больницы, нет школы, храмы разрушены, земли поросли сорной травой. Здесь больше не разводят породистых коней, и густого душистого аромата роз больше не слышно. За лотаревским розарием ухаживала Лили Вяземская, это была ее затея, ее детище. Обезумевшие крестьянки истоптали княжеские розы в тот ужасный день, когда их мужья забили до смерти князя. Женщины хотели убить и княгиню – они уже накинули на ее тоненькую шею петлю и готовы были задушить испуганную и ничего не понимающую Лили, но в последний момент на что-то отвлеклись, забыли о ней.
Так судьба уберегла Лили Шереметеву от участи, которая постигла ее супруга. Убийство Бориса Вяземского многих шокировало даже в те страшные года. Марина Цветаева назвала лотаревскую трагедию «знаменитой, по зверскости, расправой».
А что же Лили? Впоследствии Лили, уже оказавшись за границей всегда признавалась, что не держит зла на крестьян и считает виновником трагедии именно большевика-агитатора, еврейского комиссара, который на протяжении нескольких недель вел пламенную агитацию среди крестьян: умело подстрекал, провоцировал, пробуждал в людях их мрачные мотивы.
Из воспоминаний Елизаветы Вяземской:
"23 августа. Несмотря на ночной переполох, Борис первый пришел в столовую, где мы всегда пили кофе, и, по неизменному обычаю, постучал пальцем по барометру. Затем появился Ваня Горшков (дворецкий), который, встав за стулом Бориса, стал, как полагалось, сообщать ему хозяйственные новости и, между прочим, что мужики ночью бродили вокруг дома. Ваня был долгие годы камердинером отца Бориса и знал Бориса с малых лет. В это утро, более горячо, чем когда-либо, он стал убеждать Бориса, что нам пора уезжать, что положение таково, что Борис ничего здесь сделать не может и что жизнь его может быть в опасности. На это Борис ему ответил, что, как частное лицо, он совершенно согласен с Ваней, что благоразумнее и даже, может быть, полезнее нам было бы уезжать в Петроград, но, как уездный Предводитель дворянства, который по должности является Председателем мобилизационной комиссии, он обязан во время войны оставаться на месте. Ничего особенного до завтрака не произошло. Наш закусочный стол стоял перед окном, и я, которая там стояла, первая увидела бежавших по направлению к кухне солдат с винтовками наперевес и прапорщика, махавшего саблей и кричащего «спасайтесь!». Одновременно мы услыхали набат из двух бывших крепостных заречных деревень — Падворок и Дебрей. Мы отправились на кухню, где солдаты и наши служащие стали нас уговаривать уезжать, хотя бы временно, в Усмань.
В этот момент к кухонному крыльцу подъехал на тройке кучер Михайло. По-видимому, на конюшне давно были готовы к такой тревоге. «Надо ехать сейчас же! — сказал Михайло — Через пять минут будет поздно!» - «Вези княгиню к Бланку! — сказал Борис Михайле. — Я не могу отсюда бежать...», — и, обращаясь ко мне, сказал: «Please go, it will be much easier for me!» («Пожалуйста, поезжай, мне от этого будет много легче!»). Гул толпы все усиливался Борис отправился им навстречу, и я за ним. На большом дворе нас встретили криками: «Зачем приказал солдатам в нас стрелять?!» Борис спокойно стал им объяснять, что солдатам никто не приказывал стрелять, но, когда бабы полезли на них с кольями, они с испуга стали стрелять в воздух. Толпа понемногу перестала на этом настаивать и перешла на сведение старых счетов с отцом Бориса, которого они боялись и не любили, а также вообще с обидами времен крепостничества. Бабы, тем временем, занялись мною, обвиняя меня в закрытии ворот в парк (они мне ломали кусты посаженного в большом количестве Аmеlanohier Canadensis — Shadblow), тем самым, якобы, удлиняя им дорогу к почтовому отделению. К моему удивлению, у меня на шее появилась откуда-то веревка. Однако не успели бабы это сделать, как мужики грозно прикрикнули на них, и веревка исчезла. В это же время какой-то мальчишка, чтобы лучше видеть, залез на дерево и стал рвать мешавшие ему электрические провода. Инстинктивная реакция Бориса была крикнуть мальчишке, чтобы он слезал прочь, но так как тот не сразу послушался, то один из мужиков крикнул: «Слезай, дурак! Слышь, что тебе князь говорит!». Вся толпа застыла в молчании, как бы обдумывая эти взаимные проявления. Но в этот момент из толпы, которая к этому времени сильно увеличилась мужиками из Коробовки, выдвинулся маленький, щуплый, еврейского типа человек в pince-nez, который стал издеваться над мужиками, что они не смеют ничего с Борисом сделать, потому что в душе они все еще крепостные. Коробовский староста ему ответил: «Да, что говорить... Привычка... Князь свистнет — мы слушаемся... Но настали новые времена — мы хотим взять его земли. Живым он нам их не отдаст, и хотя мы его уважаем, но все же придется нам с ним покончить. Но тебе, — сказал он, обращаясь к агитатору, который одобрительно отозвался на его речь, — радоваться нечего. Наступят времена, когда мы вашего брата будем вешать, но уже без всякого уважения». Следователь, который впоследствии допрашивал меня в Москве, сказал мне, что этот большевистский провокатор был некий Моисеев, выпущенный из Сибири, куда он был сослан, как фальшивомонетчик. Наше стояние было долгое. День начал склоняться к вечеру, когда толпа, наконец, решилась нас арестовать и запереть в новой школе, недавно выстроенной Борисом в Коробовке.
Вся толпа с нами вместе отправилась туда пешком. Там нас заперли в двух маленьких комнатах учительницы, которая была в отпуску. Мебель там состояла из кровати, двух стульев, одного небольшого белого дерева стола, над которым висела раскрашенная открытка Алупки. В комнатах не было никаких занавесок. «Жаль, — сказал Борис, — что мы сейчас не там вместе с Асей и Софи». За исключением двух солдат, поставленных у нашей двери мужиками, школа была из-за летних каникул пуста. К вечеру неожиданно появилась у нас моя горничная Анна Пацевич - храбрейшая и милейшая женщина, весьма ловкая заговаривать и уговаривать. Она сумела убедить нашу стражу позволить ей передать нам непромокаемые пальто и папиросы, в которых мы, как она знала, очень нуждались. «Burberry» Бориса нам помогло завесить единственное окно в маленькой комнате, где была кровать. О спанье не было и речи, но таким образом мы избавились от бесчисленных лиц баб и детей, которые, прилипнув к окнам, с любопытством нас рассматривали. Поздно ночью вдруг вошли к нам солдаты нашей стражи и повели нас в классную комнату, где на стульях полукругом сидели старосты и важнейшие мужики, перед которыми веером лежали все наши многочисленные охотничьи ружья. С первых же слов было ясно, что наши «судьи» были в приподнятом настроении. Обращаясь к Борису и показывая на ружья, они стали его обвинять в том, что все это оружие собрано для расправы с ними. Я не выдержала и сказала им: «Как будто вы никогда раньше не видали эти ружья. Большинство из вас побывало нашими загонщиками». Борис быстро сказал мне: «Don't talk, let me answer!» («He говори ничего! Дай мне ответить!»). Обвинения становились все более и более абсурдными, и чем дольше продолжался допрос, тем яснее становилось, что они все пьяны (впоследствии я узнала, что все три деревни разгромили наш погреб и что все окружное население было пьяно). Княжья Байгора, самое большое село, богатое и с большим населением, чем все три деревни взятые вместе, не одобрило все происшествия этих дней и не приняло в них участие. Допрос тянулся долго, но, в конце концов, им надоело с нами спорить, и они отправили нас под арест назад, в комнату учительницы. Но мы не были без верных друзей. Два мужика из Коробовки, понимая, что мы в руках у пьяной толпы, решили во что бы то ни стало нас спасти. Один из них был Григорий Талицких, умный и образованный мужик. Будучи социалистом, он до революции жил под надзором полиции. Мне удалось несколько раз до этого спасти его от придирчивости местных властей, которые ждали только предлога, чтобы посадить его в тюрьму, — он это мне не забыл. Когда, после всего случившегося, я оказалась у Бланков, он приехал ко мне, чтобы выразить свое соболезнование и негодование по поводу убийства Бориса: «Неужели, — сказал он мне с горечью, — это — революция, о которой я так мечтал... Одни лишь пьяные звери». Другой, желавший нас спасти ночью из школы, был отставной вахмистр Конной гвардии. Третьим был молодой конюх из нашей беговой конюшни. Эти трое отправились ночью к Вельяминовым и стали упрашивать Марусю и Владимира дать им разрешение оседлать наших верховых лошадей и подвести их к окну комнаты, где мы были заперты. Они считали, что ввиду повального пьянства всей деревни риск не так уж велик и лучше рискнуть, чем оставить нас в руках озверелой толпы. Вельяминовы наотрез отказались дать согласие, сказав, что мы наверное будем пойманы и на месте убиты. Пожалуй, знакомая, хотя и пьяная толпа была бы менее страшна, чем тот отряд вооруженных дезертиров с фронта на станции Грязи, который затем и растерзал Бориса.
Поздно вечером вошел ко мне комиссар. Сказал, что я могу пойти домой. Совершенно не помню, кто меня довез домой (то есть, обратно в Лотарево), но помню мой вход в дом. В столовой был накрыт стол, и Ваня мне спокойно докладывал, что обед готов. Я прошла в нашу спальню, где кровать была открыта на ночь, — на одну минуту мне показалось, что если я лягу в кровать, то все случившееся за день исчезнет. Ваня же, зная, что я полтора суток не ела, пришел настаивать на том, чтобы я поужинала, убеждая меня, что Борис теперь в безопасности, так как солдаты, которых мужики заставили везти Бориса в Грязи, сказали ему, что самое главное — это вывезти его отсюда и что они его везут в Москву, где он будет в полной безопасности. Я этому поверила и решила пообедать. Сидя за столом, я вдруг услыхала странный шум и какой-то переполох в буфетной, куда вызвали Ваню. Вскоре оттуда появился солдат из охраны, который только что вернулся из Грязей. Он сказал мне, что Борис просит меня встретить его в Москве. С ним была Маруся Вельяминова, которая сказала, что приехала, чтобы повидать меня. Я чувствовала, что что-то неладно, что у них странный вид, что они что-то скрывают, но им удалось убедить меня лечь спать, чтобы завтра рано утром ехать в Москву. По дороге в мою спальню я зашла в кабинет Бориса и, к моему удивлению, увидала сидящего за письменным столом и разбиравшего какие-то бумаги Бориса того самого агитатора Моисеева, которого я видела в толпе вчера утром. Когда я его спросила, что он тут делает, он грубо мне крикнул: «Это не ваше дело! Отправляйтесь в свою комнату!» Солдат, который стоял за мной, сделал мне предостерегающий жест, чтобы я не отвечала. Не успела я вернуться к себе в комнату, как Анна пришла мне сказать, что мой друг солдат просит меня не ложиться спать, так как, как только станет совсем темно (нашу электрическую станцию толпа вчера разгромила и фонари не горели), он, с согласия кучера Михайло, воспользовавшись выходом из моего заднего коридора, вывезет меня в Грязи под видом моей горничной. Так было и сделано. Анна шла за нами, чтобы отвечать, если нас окликнут. Я должна была молчать и закрываться большим платком. Какие-то мужики с факелами нас окликнули. Солдат ответил, что уезжает по делам. Кромешная тьма нам помогла добраться до тройки. Не успели мы сесть в экипаж — солдат и я, как Михайло полным ходом вылетел из ворот усадьбы и, не сбавляя ходу, мы понеслись в Грязи. Стояла чудная звездная августовская ночь. Я радовалась, что подошел конец всему этому двухдневному кошмару и больше не беспокоилась о Борисе, считая, что он в Москве. Михайло и солдат угрюмо молчали. Иногда я слышала, что они вздыхали. Меня удивило, что мы объезжаем попадающиеся нам по пути деревни. Все это меня удивляло, но, как ни странно, не пугало. Я вдруг встрепенулась, когда увидела, что они подвезли меня к крыльцу дома в имении А.В.Бланка Аннино. «Зачем мы сюда приехали?» — спросила я Михайло. «Чтобы узнать, где князь», — ответил он. Я вошла, спросила где Борис. Они мне сказали, что он убит. Я повернулась назад и сказала Михайло везти меня на вокзал в Грязи. «Я поеду с вами», — сказал мне мой солдат. Он был удивительно трогателен со мной. Матрос-социалист, но не большевик. Без него я никогда бы не нашла товарный вагон на запасном пути, где лежало тело Бориса. Я оставалась в вагоне, пока совсем не рассвело. Кто-то позвал священника, который отслужил панихиду. Кроме него, в вагоне были только солдат и я, но потом подошли какие-то рабочие с маленькими детьми. Дети дали мне букет полевых цветов, который они собрали. Вернулась в Аннино, легла в постель и пролежала весь день.
На следующий день, 25 августа, военный комендант станции Грязи дал знать своему коллеге в Воронеже, куда направился ушедший из Грязей эшелон с предполагаемыми убийцами, чтобы эшелон был задержан и названные им лица арестованы.
В тот же лень, 25 августа, в помещении Грязинской станции, Усманский уездный комиссар Русанов и следователь Морозов осмотрели тело Бориса. Но когда они попытались допросить свидетелей на месте, их от этого отговорил командир военного конвоя, сказав, что его люди ненадежны и способны даже линчевать следователя. Уже на следующий день после убийства Бориса Вяземского местная печать начала подробно писать о произошедшем."
~
~
Лили в Крыму
Лили соединилась со своей семьей в Крыму. Ее мать и младшие братья и сестры тоже пережили немало страшных дней в Ессентуках, где их всех вели на расстрел и лишь в последнюю минуту горничная Надя упросила комиссара отпустить женщин и детей. Шереметевы тогда сразу скрылись, долгое время прятались на даче у знакомых – это их и спасло, так как отпустившие их большевики очень скоро передумали и пытались везде разыскивать графскую семью.
Лили все старались окружить заботой и вниманием. Много участия к так рано и ужасно овдовевшей молодой женщине проявили вдовствующая Императрица Мария Федоровна и великая княгиня Ксения Александровна.
А Лили снова все больше времени проводила в окружении детей – братьев и сестер, многочисленных племянников и племянниц. Племянница Елизаветы Дмитриевны и крестница ее покойного супруга, Татьяна Васильчикова, вспоминала о том времени:
"Царевной из сказок казалась нам тетя Лили, вдова дяди Бориса, моего крестного. Она была высокая и стройная как тростинка, на бледном лице – большие черные глаза. "Такая молодая!" – Вздыхали взрослые, глядя на нее. И хотя она принимала участие в наших прогулках и пикниках, все же милая, тихая и всегда печальная тетя Лили казалась нам существом не от мира сего".
Лили все старались окружить заботой и вниманием. Много участия к так рано и ужасно овдовевшей молодой женщине проявили вдовствующая Императрица Мария Федоровна и великая княгиня Ксения Александровна.
А Лили снова все больше времени проводила в окружении детей – братьев и сестер, многочисленных племянников и племянниц. Племянница Елизаветы Дмитриевны и крестница ее покойного супруга, Татьяна Васильчикова, вспоминала о том времени:
"Царевной из сказок казалась нам тетя Лили, вдова дяди Бориса, моего крестного. Она была высокая и стройная как тростинка, на бледном лице – большие черные глаза. "Такая молодая!" – Вздыхали взрослые, глядя на нее. И хотя она принимала участие в наших прогулках и пикниках, все же милая, тихая и всегда печальная тетя Лили казалась нам существом не от мира сего".
Английские корабли
Весной 1919 года Лили Шереметева вместе с родственниками навсегда покинула Россию. Английские корабли, посланные по настоянию вдовствующей королевы Александры увозили из Крыма не только ее царственную сестру, Марию Федоровну, но и всех, кто в те дни пожелал покинуть отравленную большевизмом страну.
Двадцать первого апреля Лили была уже на утопающей в апельсиновых цветах Мальте. Позже ее семья обосновалась во Франции и Италии. Начались эмигрантские будни. Жизнь брала свое – в эмиграции Елизавета Дмитриевна вышла замуж еще раз – за графа Сергея Александровича Чернышева-Безобразова. И это замужество оказалось для нее счастливым. Чета Чернышевых-Безобразовых переехали в США, где у них родилось трое детей: Ирина, Ксения и Александр.
Но порой ночным кошмаром восставало перед Лили пережитое в Лотарево в 1917 году. Она хранила светлые воспоминания о своем первом супруге и первой любви. Как-то раз в доверительной беседе со своей племянницей Лили призналась, что она очень счастлива со вторым супругом, но когда думает о «муже перед Богом», то для нее это всегда Борис Леонидович.
Двадцать первого апреля Лили была уже на утопающей в апельсиновых цветах Мальте. Позже ее семья обосновалась во Франции и Италии. Начались эмигрантские будни. Жизнь брала свое – в эмиграции Елизавета Дмитриевна вышла замуж еще раз – за графа Сергея Александровича Чернышева-Безобразова. И это замужество оказалось для нее счастливым. Чета Чернышевых-Безобразовых переехали в США, где у них родилось трое детей: Ирина, Ксения и Александр.
Но порой ночным кошмаром восставало перед Лили пережитое в Лотарево в 1917 году. Она хранила светлые воспоминания о своем первом супруге и первой любви. Как-то раз в доверительной беседе со своей племянницей Лили призналась, что она очень счастлива со вторым супругом, но когда думает о «муже перед Богом», то для нее это всегда Борис Леонидович.
Продолжение рода
Много лет спустя история любви Лили и Бориса Вяземских вдохновит их родственницу, известную актрису и писательницу Анну Вяземски на роман «Горстка людей», очень ярко повествующий о счастливом предреволюционном времени и черных лотаревских днях 1917 года.
Похожие материалы
Популярные публикации из рубрики "Интервью с Наследниками"